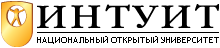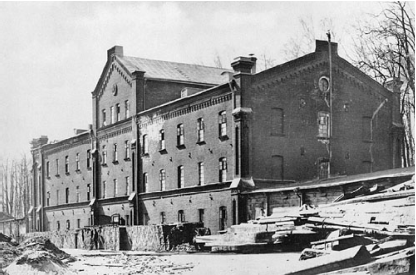История призрения и благотворительности
3.6. Городское призрение
Новый этап в развитии общественного призрения с земской (1864) и городской (1870) реформами. Около 95% всех благотворительных обществ и 82% заведений общественного призрения в Российской империи были основаны именно во второй половине XIX в. Так, в 1882 г. начало действовать общество попечения о бедных и больных детях "Синий Крест", которое возглавила великая княгиня Елизавета Маврикеевна. В большинстве губерний России сложилась довольно запутанная система организации призрения, когда одни и те же функции дублировали земства, городские органы местного самоуправления, сословно-корпоративные органы поддержки и добровольные благотворительные общества, а также сохранившиеся от старых времен учреждения Приказа общественного призрения. Роль государства все больше уступает частной инициативе, проявляющей себя в меценатстве и филантропической деятельности. Многие знатные дворяне с удовольствием возглавляли и заседали в попечительских советах различных благотворительных обществ, деньги на которые давало купечество.
Знаете ли вы, что…
Термин "социальный работник" (social worker) первым предложил американский экономист Симон Н. Паттен в 1900 г. применительно к деятельности добровольных помощников в сеттльменте (поселении). Хотя Мэри Ричмонд предлагала другое слово - благотворитель. Но оно не прижилось.
Общественное призрение в городах было поручено органам городского самоуправления. По "валовому" показателю их деятельность даже превышала земскую. К середине 1890-х гг. около 80% всех расходов городов на общественное призрение приходилось на города 34 губерний, где, в свою очередь, более 84% выпадало на долю Санкт-Петербурга, Москвы и Одессы (Херсонской губернии). В 1889 г. только в Москве насчитывалось 489 благотворительных учреждений, из них 225 оказывали помощь взрослым, 198 - детям, 66 оказывали медицинскую помощь. Из 198 заведений для детей 42 составляли детские приюты, 28 - заведения смешанного типа (с предельным количеством интернированных детей) и 128 - училища и школы для приходящих.
Московская городская дума в 1891 г. приняла Положение об участковых попечительствах, а в конце 1894 г. начала финансирование первых 40 городских попечительств о бедных. В 1901 г. в Москве насчитывалось 197 заведений для детей (88 детских приютов, 44 заведения смешанного типа, 57 училищ и школ для приходящих и 8 заведений для неизлечимых больных, увечных и болезненных детей), к 1905 г. дополнительно открылись еще 44 заведения (24 детских приюта, 16 - смешанного типа и для приходящих, 4 - для неизлечимо больных). Были избраны 24 участковых попечителя и их товарищи (заместители), утверждены предложенные ими члены советов попечительств (от 4 до 10 человек). Попечительства разделили свои участки на более мелкие округа, где и велась непосредственная работа по призрению. Наряду с так называемыми "открытыми" формами призрения (профилактика нищенства и социальная реабилитация выявленных попечителями нуждающихся) в ведении городского самоуправления находились и "закрытые" формы призрения (богадельни, приюты, столовые, библиотеки и т.д.). Организация филантропической деятельности в Москве послужила образцом для других городов Российской империи.
1 сентября 1895 г. вышел Указ императора Николая II об учреждении Попечительства о домах трудолюбия и работных домах. Согласно Указу деятельностью нового органа руководила супруга Николая II императрица Александра Федоровна. Только за три года Попечительство открыло 274 благотворительных учреждения, среди них Дом трудолюбия в Кронштадте, Первый Ольгинский приют трудолюбия в составе 37 учреждений и многие другие. Ольгинские детские приюты трудолюбия предназначались исключительно или преимущественно для подготовки детей к трудовой жизни. "Основною задачей приютов является призрение и воспитание остающихся без присмотра и пристанища детей обоего пола, с целью подготовки к самостоятельной трудовой жизни". При приеме детей в различные благотворительные заведения учитывались пол, возраст, физические и умственные данные детей, сословное происхождение, законорожденность, вероисповедание, необходимость в специальном воспитании. В соответствии с этим составлялась программа воспитания, образования и обучения детей трудовым навыкам, определялись ремесла.
В 1902 г. Ольгинский детский приют был открыт в Костроме. В него принимались дети обоего пола, без различия вероисповедания, сословия и звания, способные по своим силам к работе, не младше 6 лет (в приюте они могли оставаться до 15 лет, девочки - до 16). Как правило, дети принимались по указаниям благотворительных обществ, частных и должностных лиц (городских судей, земских начальников, чинов полиции, фабричных инспекторов и т.д.). В случае необходимости о ребенке собирались сведения, уточнялась степень нужды родителей (если таковые имелись). Дети в приюте содержались скромно и просто, с тем чтобы приготовить их к трудовой жизни. С этой целью дети ежедневно приучались соразмерно возрасту к крестьянским работам, преимущественно огородничеству и садоводству; их обучали несложным ремеслам и рукоделию (девочек - плетению кружев), а также домашним работам (шитью платья и белья, вязанию, уборке комнат, стирке и проч.). В приюте воспитанники проходили курс одноклассной школы. В свободное время устраивались религиозно-нравственные чтения с показом иллюстраций. Два раза в неделю проводились бесплатные уроки пения. Особое внимание обращалось на физическое развитие. Выпускники снабжались соответствующим документом о пребывании в приюте, комплектом белья и платья. Правление приюта по возможности помогало своим выпускникам, следило за их судьбой.
В 1911 г. в Костроме было 8 детских приютов, а в губернии их насчитывалось 13. Сельские приюты открывались при активной помощи благотворителей. Например, в Нерехтском уезде в 1901 г. на средства Н.И. Симонова (5 тыс. руб.) был открыт Яковлевский детский приют на 25 человек для детей крестьян 2-го земского участка, не имеющих родителей и средств на воспитание. Детские приюты содержались городскими благотворительными обществами: Костромским попечительным о бедных комитетом - с 1869 г. (23 человека), Нерехтским - с 1897 г., Галичским, Макарьевским (при богадельне) - с 1901 г. (24 человека), церковноприходскими попечительствами и братствами. Костромское епархиальное попечительство о бедных духовного звания брало на себя заботу о сиротах в виде опекунства.
Самым активным в Костроме было общество "Помощь детям", работавшее с 1899 г., среди учредителей которого были учителя, врачи, земские деятели. При нем были устроены ясли-приют, находившиеся под наблюдением врачей губернской земской больницы, которые бесплатно лечили детей. Благодаря крупным пожертвованиям обществом для яслей был приобретен дом. В 1905 г. была ассигнована значительная сумма на организацию бесплатных обедов для детей костромской бедноты. Общество заботилось о полноценном отдыхе детей бедных родителей, для чего в пределах Костромской губернии были основаны летние колонии для учащихся со слабым здоровьем. На отдых в арендованную обществом загородную дачу принимались дети из бедных рабочих семей, которые из-за плохого питания и тяжелого образа жизни нуждались в укреплении здоровья. За время своего существования, с 1900 по 1915 г., общество сумело объединить идеей благотворительности провинциальную интеллигенцию и богатых горожан, привлечь капиталы, а также внимание и силы городского самоуправления, земств и общественности к проблеме положения детей и объединить их усилия в оказании помощи детям.
Во второй половине ХIX в. в стране активно развивается благотворительность, а сеть общедоступных больниц, школ, приютов, столовых, мастерских, училищ охватывает практически всю Россию. Всего к началу XX в. в России насчитывалось 7349 благотворительных обществ и 7505 благотворительных заведений, т.е. 14 854 благотворительных учреждения. Их средства (недвижимость, капиталы, ежегодные доходы) составляли 404 843 798 руб., из которых недвижимость оценивалась в 142 246 495 руб., а капиталы, проценты с них, доходы от недвижимости, членские взносы и др. - в 262 597 303 руб. Доходы всех учреждений в 1897 г. составили 59 311 787 руб., расходы - 48 574 455 руб. Общее число лиц, прибегнувших к благотворительной помощи в течение 1899 г., исчислялось 7 млн человек. При этом благотворительные общества оказали содействие 1,8 млн, а заведения - 5,2 млн.
Социальная работа обращается к барьерам, неравенству и несправедливости, существующим в обществе. Она дает ответ на кризисные и чрезвычайные ситуации так же, как и на ежедневные личные и социальные проблемы. Социальная работа имеет в своем арсенале разнообразные навыки, технологии и методы и действует исходя из целостного подхода к человеку и окружающей его среде. Социальная работа ведется на разных уровнях, начиная с включения в психолого-социальные процессы человека и заканчивая социальной политикой, планированием и развитием. Под этим подразумевается консультирование, клиническая социальная работа, групповая работа, социальная педагогика, семейная терапия, а также помощь людям в получении социальных услуг и доступа к ресурсам в обществе.
Правительство поощряло богатых людей делать всевозможные пожертвования. Именно благотворительность часто открывала возможности для получения государственных чинов, орденов, званий и прочих отличий. Чины и ордена повышали общественный престиж и респектабельность новых буржуа и старых аристократов.
Уже в конце ХIX в. по масштабам пожертвований купцам не было равных. К началу ХХ в. только в Москве существовало 628 "богоугодных" заведений (приюты, школы, богадельни, ночлежные дома, столовые и т.п.), построенных и содержащихся во многом на деньги купечества. Крупнейшими благотворителями были московские купцы Алексеевы, Бахрушины, Капцовы, Копейкины-Серебряковы, Лепешкины, Лямины, Морозовы, Рукавишниковы, Третьяковы, Шаповы и др., выделявшие сотни тысяч рублей. Сиротский приют имени братьев Бахрушиных принимал мальчиков в возрасте от 4 до 8 лет. Он ставил целью "бесплатно давать религиозное, нравственное и физическое воспитание и практическое ремесленное образование бедным детям мужского пола, покинутым родителями, и сиротам преимущественно московских жителей".
Смирнов Петр Арсеньевич (1831-1898) - виноторговец и винопромышленник, московский и петербургский (с 1892) 1-й гильдии купец, коммерции-советник, учредитель (1893) и директор Товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П.А. Смирнова в Москве. Член Московского комитета попечительства о бедных, почетный член Московского совета детских приютов ведомства императрицы Марии Федоровны, попечитель Александро-Мариинского женского училища, почетный член попечительского совета Московской глазной больницы, попечитель Иверской общины сестер милосердия, староста Благовещенского и Верхоспасского соборов Московского Кремля.
К концу ХIX в. уже сформировались основные формы оказания благотворительной помощи детям: призрение, воспитание и обучение. Сюда входили: приюты, ясли, детские сады, убежища и т.д., заведения для постоянного и временного проживания детей; профессиональные и ремесленные школы; исправительно-воспитательные заведения; школы и приюты для слепых, глухонемых детей; общежития для учащихся; детские больницы и лечебницы; материальная помощь учащимся.
В Петербурге задержанные полицией нищие распределялись по разрядам, в соответствии с которыми потом занимались их судьбой. В первый разряд попадали те, кто стал таковым в результате несчастных обстоятельств, сиротства, старости, болезни, т.е. те, кто сам не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. Их помещали в богадельни или дома призрения при Московском комитете для разбора просящих милостыню. Во второй разряд попадали сироты, больные, старики. Им давали работу или помещали в дома трудолюбия, на фабрики, заводы казенные или частные. От комитета по призрению они получали одежду и денежное пособие. К третьему сорту отнесли "профессиональных" нищих, занимающихся этим промыслом из-за лени и отвращения к труду. Таких людей передавали суду, и по отбытии наказания иногородние высылались на два года без паспорта, а столичные передавались в распоряжение градоначальника. Четвертый разряд пополняли временные нищие, которые потеряли паспорт и поэтому не могли найти работу или были не в состоянии вернуться домой из-за нехватки средств. Таким нищим комитет выписывал новые паспорта, давал работу у себя или помещал к частным лицам, помогал вернуться домой, снабжая или деньгами, или бесплатным билетом на проезд по железной дороге.
На деле, правда, такой заботой было окружено только 10-15% нищих, остальных петербургская полиция сразу высылала "за сто первую версту". К тому же власти не могли обеспечить всех нуждающихся работой, да и работники из нищих были никудышные. Большинство высланных тут же возвращалось обратно, а данную одежду продавали, наряжаясь в "униформу" - лохмотья.
Для достойного увековечения 300-летней годовщины Дома Романовых был образован Романовский комитет для призрения сирот сельского населения, принятый затем под высочайшее покровительство. Средства комитета и его отделений состояли из членских взносов, частных сборов и пожертвований в виде как движимого, так и недвижимого имущества и дополнялись ассигнованиями из средств Государственного казначейства. Из этих сумм выдавались пособия на содержание воспитанников-сирот в трудовых приютах от 12 до 17 лет.
В конце ХIX в. на Алтае существовало несколько приютов для сирот и бедных детей. В городе Барнауле в 1884 г. был открыт Мариинский женский приют для сирот, основанный винозаводчицей Судовской. Капитал, пожертвованный Судовской, на проценты которого и содержался приют, в 1888 г. составил 14 195 руб. В селении Улоль Бийского округа был открыт "приют для инородческих сирот". Его построила и содержала на свои средства Алтайская духовная миссия. В 1885 г. в приюте жили и обучалась 8 мальчиков и 20 девочек, с содержанием каждого 40 руб.
Конец XIX - начало XX в. характеризовался в истории России движением Открытого общественного призрения, уникального по своей гуманной сути, продуманности сети учреждений по воспитанию и обучению убогих детей и подростков, в том числе умственно отсталых. Само слово "убогий" понималось тогда однозначно: у Бога. Отсюда и отношение к умственно отсталому человеку: обидишь убогого - Бога обидишь. Не обижали. Только в одном Санкт-Петербурге в 1916 г. было создано более 100 приютов для детей с разной степенью умственной отсталости, включая "генетических идиотов", т.е. тех, кого мы сегодня считаем "необучаемыми" и участь которых определена раз и навсегда - психоневрологический интернат. Не гнушалась тогда помогать убогим детям жена последнего императора России, а княгиня Ольга Апраксина стояла во главе Попечительного совета, куда входили самые просвещенные умы России. 3 000 золотых рублей единовременно вносил член такого Совета, чтобы числиться им пожизненно.
В 1902 г. А.А. Абрикосова внесла 100 тыс. руб. на устройство бесплатного родильного приюта; С.В. Лепешкин перевел в 1914 г. 200 тыс. Московскому университету; в 1899 г. Рахмановы ассигновали 200 тыс. на устройство туберкулезного санатория; И.П. Воронин завещал в 1905 г. 400 тыс. на устройство богадельни; А.И. Коншина в 1913 г. передала Москве дачу в Петровском парке и 300 тыс. для организации санатория и "дома матери и ребенка"; 200 тыс. на благотворительные цели выделил торговец пушниной П.П. Сорокоумовский. Было немало крупных анонимных переводов лечебным и учебным учреждениям. В 1898 г. В.Е. Морозов выделил 400 тыс. на строительство бесплатной детской больницы на 150 коек. С именем Г.Г. Солодникова связано самое крупное пожертвование за всю историю благотворительности в России, составившее 21 млн руб. Это все его богатство, которое он, за вычетом 800 тыс. родственникам, завещал на общественные нужды: треть - на устройство в губерниях Тверской, Архангельской, Вологодской и Вятской земских женских училищ; треть - на учреждение в тех же губерниях и в городе Серпухове мужских и женских профессиональных школ и родильного приюта; треть - на постройку домов с дешевыми квартирами в Москве.
Один из мотивов благотворительности русских предпринимателей - традиционное религиозное сострадание к сирым и убогим. Отсюда выделение средств на богадельни, приюты, ночлежные дома. То была типичная форма буржуазной благотворительности, отличавшаяся от обычной подачи милостыни лишь своим масштабом. Многие капиталисты были чрезвычайно набожными людьми.
Отдавать ребенка в детский дом - крайняя мера. Согласно исследованиям, если ребенка не передали в семью до трех лет, ему будет сложно адаптироваться к новым условиям жизни.
Наряду с государственными, земскими и городскими благотворительными учреждениями помощь детям-сиротам оказывали филантропические союзы и общества, этноконфессиональные, ориентированные на помощь в среде диаспоры, и сословно-корпоративные организации, которые выступали как учреждения адресной социальной помощи. Наиболее заметной была деятельность протестантских и еврейских общин, которые обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев ставил даже в пример: "Евреев в России миллионы, у них бедных мало, а нищих почти нет, так как у них есть похоронные братства, кагал и т.п. Немцев у нас тоже много, и между ними бедных тоже почти нет, так как у них похоронные и всякие прочие вероисповедные кассы заведены… У православного же простого народа… общественное призрение возложено законом, и действующим, и проектируемым на сельские и волостные общества, мещанские и ремесленные сословия, т.е. на гражданские учреждения, а не на вероисповедную единицу православной России".
По различным данным, к началу XX в. в России было от 11 до 14 тыс. благотворительных обществ и заведений. Если благотворительные общества помогали просителю в момент обращения, то благотворительные заведения, помимо разовой помощи нуждающимся, давали приют и пропитание тем, кто в них проживал на постоянной основе.
Образование вообще, и профессиональное в первую очередь, призвано было играть, как справедливо отмечает В.А. Горнов, роль социального амортизатора, выполнять компенсаторную функцию. Соединение образовательных функций и мер социальной помощи свидетельствует об эволюции общественного призрения от простой филантропии к современным формам социальной поддержки, основанным на идее ресоциализации через освоение новых видов деятельности. Образование служило воспроизводству социально-профессиональной структуры общества, а призрение - поддержанию единства социума, интеграции его членов на основе общей деятельности (социальной помощи). Обычно и то и другое направлялось и регулировалось гражданским обществом, но в кризисные и переходные эпохи возрастала роль государства.
В 1901 г. вышло 3 тома сборника "Благотворительные учреждения Российской империи". К 1899 г. в России насчитывалось 7349 благотворительных обществ (примерно 6 обществ на 100 тыс. населения), из них 50,3% были общественными. Общества имели свои уставы, которые утверждались Министерством внутренних дел, а капиталы содержали обычно в ценных бумагах. Устанавливались членские взносы, сумма которых могла быть увеличена в большую сторону в случае необходимости.
3.7. Недостатки старой системы призрения
Несмотря на столь впечатляющие масштабы общественного призрения в дореволюционной России, идеализировать ее успехи не следует. Не все в ней было так гладко, как это кажется при ее сопоставлении с нынешней системой социальной опеки сирот. И сегодня, и 100 лет назад количество детей-сирот измерялось почти одинаковой величиной - несколькими миллионами. Действительно, в конце ХIX - начале ХХ в. в России насчитывалось до 2,5 млн детей-сирот, существовавших во всех регионах страны. Для сносного призрения одного ребенка ежегодно надо было тратить около 100 руб., а на всех - 250 млн руб., т.е. четверть всего государственного бюджета. Таких денег у государства не было. Нет денег на содержание и сегодняшних сирот, хотя тратится меньше, чем до революции. Тогда не хватало квалифицированных кадров и внимания к детям, не достает этого и сейчас. Делопроизводитель Главного управления по делам местного хозяйства А.Г. Кайзер приводит такие результаты горького опыта деятельности приютов: "Страшный процент смертности, доходивший до сплошного вымирания всех поступивших и обращавший заведения для призрения в морильню; полная беспомощность немногих выживших питомцев при выходе из заведения на путь самостоятельной жизни".
В начале XIX в. бесприютные дети и незаконнорожденные младенцы в пределах губернии содержались в Костромском воспитательном доме, экономическое и материальное состояние которого в 1807 г. было признано неудовлетворительным. По освидетельствовании губернатором оказалось, что "Дом сей так дурно устроен, что никакого в нем для малолетних младенцев покоя не имеется… Дети новорожденные кормятся кашею и молоком, тогда как их должны кормить хорошим и здоровым грудным молоком… колыбельки у самых окон, белье не переменяется вовремя. Смотрение поручено женщине, которая действует по своему усмотрению и никому из сведущих не подчиняется".
Особенно печальным признавалось положение детей-сирот в деревне. Порядок призрения бесприютных детей в сельских обществах был, как правило, таков: они кормились, переходя по очереди из дома в дом. Нередко хозяйка дома, в котором проживал в данный момент сирота, была обременена собственными заботами по хозяйству и многочисленными родными детьми. Комитет главного попечительства детских приютов, состоявший при Ведомстве учреждений императрицы Марии Федоровны, взялся за улучшение загородных детских приютов. Создавались два типа сельских детских приютов: первые - сельские сиротские, для постоянного призрения, религиозно-нравственного воспитания и первоначального образования и обучения ремеслам местных сирот; вторые - ясли-приюты для призрения крестьянских детей во время дневных работ родителей.
Сельские попечительства детских приютов возглавлялись местным земским начальником, действительными членами являлись: попечители, члены уездной земской управы, местный становой пристав, отец благочинный, настоятель местной церкви и волостные старшины всех волостей уезда. Попечительства собирались для обсуждения текущих вопросов примерно один раз в месяц и контролировали всю деятельность приютов.
В приюты принимались дети до 16 лет, число призреваемых определялось попечительством. Сирот помещали в приюты по решению сельских сходов и через посредство местных попечителей. В случае принятия в приют сиротское имущество продавалось, а вырученные деньги вносились в сберкассу государственного банка на книжку сироты. Наблюдение за сиротами производилось и после их ухода из приюта вплоть до вступления в брак.
К устройству их трудовой жизни прилагалось немало усилий, подыскивались хорошие хозяева, нередко выдавалось денежное пособие. Для обеспечения самостоятельности в жизни особое внимание уделялось обучению подопечных. По достижении 8 лет дети обучались грамоте, для чего посещали ближайшую земскую или церковноприходскую школу. Если школы поблизости не было, изыскивались средства для открытия школы при приюте.
Средства сельских приютов и яслей-приютов состояли из собственных движимых и недвижимых имуществ и денежных капиталов, пособий от правительственных и земских учреждений, ежегодных пособий от сельских обществ, выручки от благотворительных лотерей, ежегодных взносов почетных членов попечительств, кружечных сборов, стипендий, учрежденных отдельными лицами и обществами, пожертвований деньгами, вещами, продуктами, доходов от ведения полевого хозяйства и продажи ремесленных изделий, изготовленных воспитанниками.
В 1997 г. сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС), исследуя этот вопрос для Всемирной организации здравоохранения, спросили 482 украинцев, должны ли дети финансово заботиться о своих родителях. "Да" ответили 54% опрошенных, "нет" - 32%, "в зависимости от возможностей" - 14%.
Другой тип сельских приютов представляли ясли-приюты. Они носили временный характер и были открыты только в летнее время. Перед яслями-приютами ставилось много задач: научить крестьянок правильному уходу за детьми, сберечь деревни от пожаров, возникавших от шалости детей с огнем, способствовать снижению детской заболеваемости и смертности. Нередко ясли размещались в зданиях земских школ. Были случаи, когда они устраивались за плату в обыкновенной крестьянской избе. Поскольку многие родители уходили на летнее время на заработки, детей в ясли отдавали охотно. Некоторых детей приводили нерегулярно, а лишь тогда, когда их не с кем было оставить. В ясли принимались как грудные дети, так и дети постарше, не имеющие болезней (лишь у немногих наблюдалась экзематозная сыпь на руках и голове). Обстановка была самая простая. В детской комнате к потолку были подвешены корзины с набитыми сеном тюфячками для грудных детей, а детей постарше укладывали на нары. В комнате для мытья имелась скамейка с корытами, стол с тюфячком, покрытый клеенкой, и умывальник; тут же на полу на набитых сеном тюфяках спали старшие дети. В хозяйственной комнате был стол, где на бензиновой лампе кипятились молоко и отвары; там же находился шкаф с бельем и полки с провизией и посудой; в кухне в плохую погоду дети ели, для чего были устроены небольшие длинные столики и скамейки. Пища грудных детей состояла из кипяченого молока, иногда с ячневым или овсяным отваром, яиц, манной каши и белого хлеба. Некоторых детей матери приходили кормить грудью. В пищу старшим детям давали черный хлеб, молоко, щи с капустой, супы (овсяный, картофельный, иногда с мясом) и каши (пшенная, гречневая, овсяная, ячневая). Некоторых детей приносили только на день. В 1902 г. в яслях было 45 детей.
В сознании современников детский приют воспринимался скорее как ночлежка, в высокой степени криминогенная, либо исправительное, а не благотворительное учреждение. Ночлежные приюты, располагавшиеся в Рязани, были крайне запущены как в санитарном, так и в нравственном отношении. С другой стороны, Сиротский дом и Дворянское воспитательное заведение, существовавшие в конце XVIII - начале XIX в., были относительно закрытыми сословными учреждениями, а Александровское заведение, созданное в 1838 г., - и вовсе привилегированным, скорее похожим на пансион, чем на приют.
Население, относящееся к яслям сочувственно, стремилось всячески помочь им не только деньгами, но и продуктами, вещами, предметами быта и собственными силами. Впрочем, в некоторых селениях ясли-приюты вызывали к себе недоверие, их называли "барской" затеей, средством "выманивания деньги" из крестьян; считалось, что отдавать детей в ясли постыдно, что ребенок "належит" в яслях. В таких местах даже идти в ясли нянькой никто не соглашался. Среди самых уязвимых мест яслей отмечались: неудобства помещений, плохой подбор прислуги, недостаточное знакомство заведующих яслями с правилами элементарной детской гигиены, способами рационального кормления и ухода, особенно за грудными детьми.
Другим негативом в деятельности земств и государства по призрению детей-сирот стал рост детской преступности. Число осужденных 10-17 лет в 1910 г. в 2 раза превышало то же число за 1901 г. Из 2 169 детей, поступивших в 1913 г. в исправительные колонии Тюремного управления, 1228 детей были сиротами или полусиротами. По сравнению с Западной Европой как тогда, так и сегодня мы опять отстаем. Как тогда, так и сегодня начало нового столетия приходилось на мучительный период перехода от одной общественной формации к другой: в начале ХХ в. - от капитализма к социализму, в начале ХХI в. - от социализма опять же к капитализму.
В России второй половины XIX - начала ХХ в. государственная власть, вынужденная осуществлять протекционистскую политику в отношении развивающейся капиталистической промышленности, оказалась в нелепом положении: расходуя огромные средства на помощь нуждающимся, она сама же создавала условия для появления новых сотен тысяч обездоленных. Локальные попытки применения передового европейского опыта социальной работы (Москва, Харьков, Санкт-Петербург и земства некоторых губерний) имели ограниченное применение и невысокую эффективность.